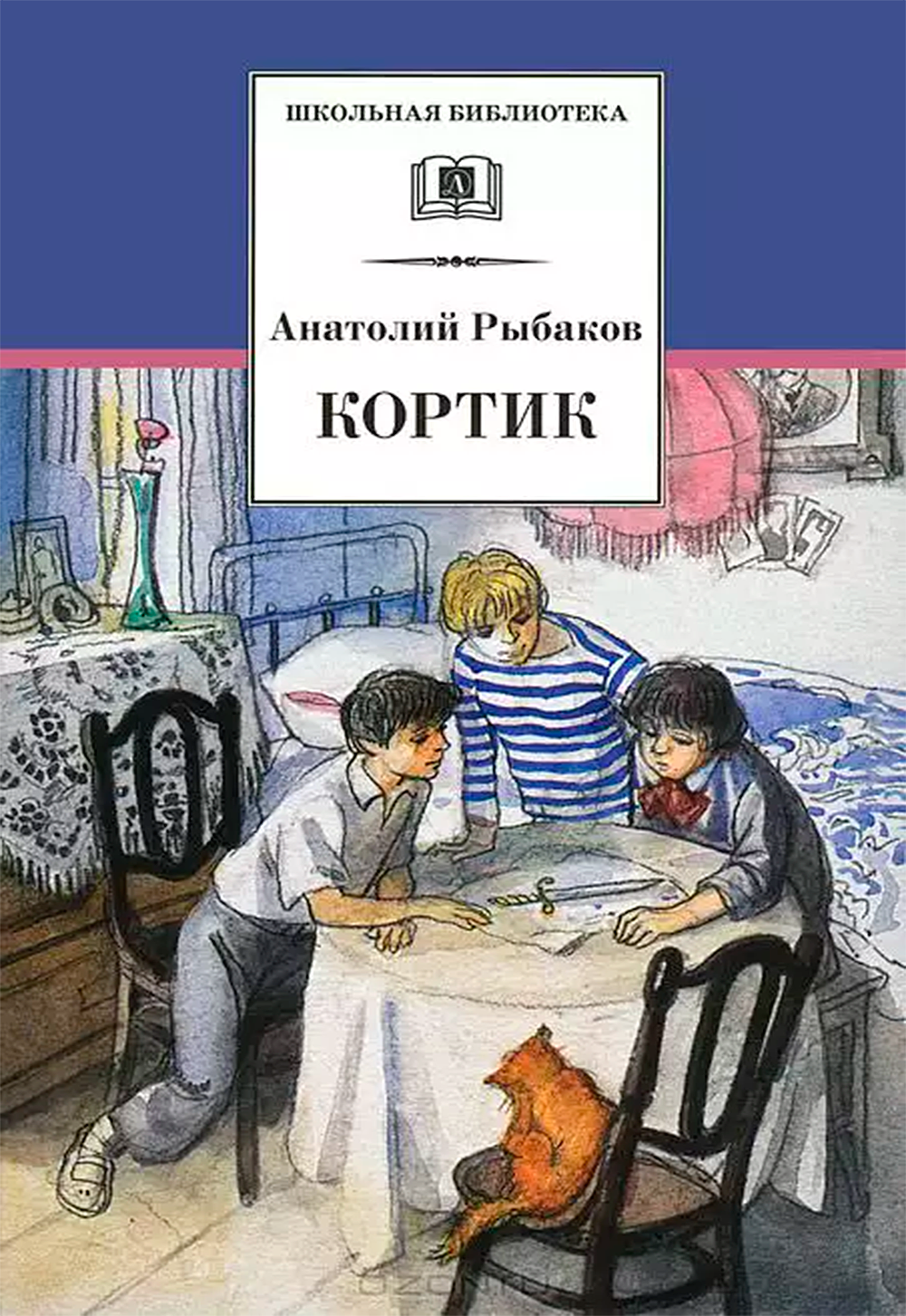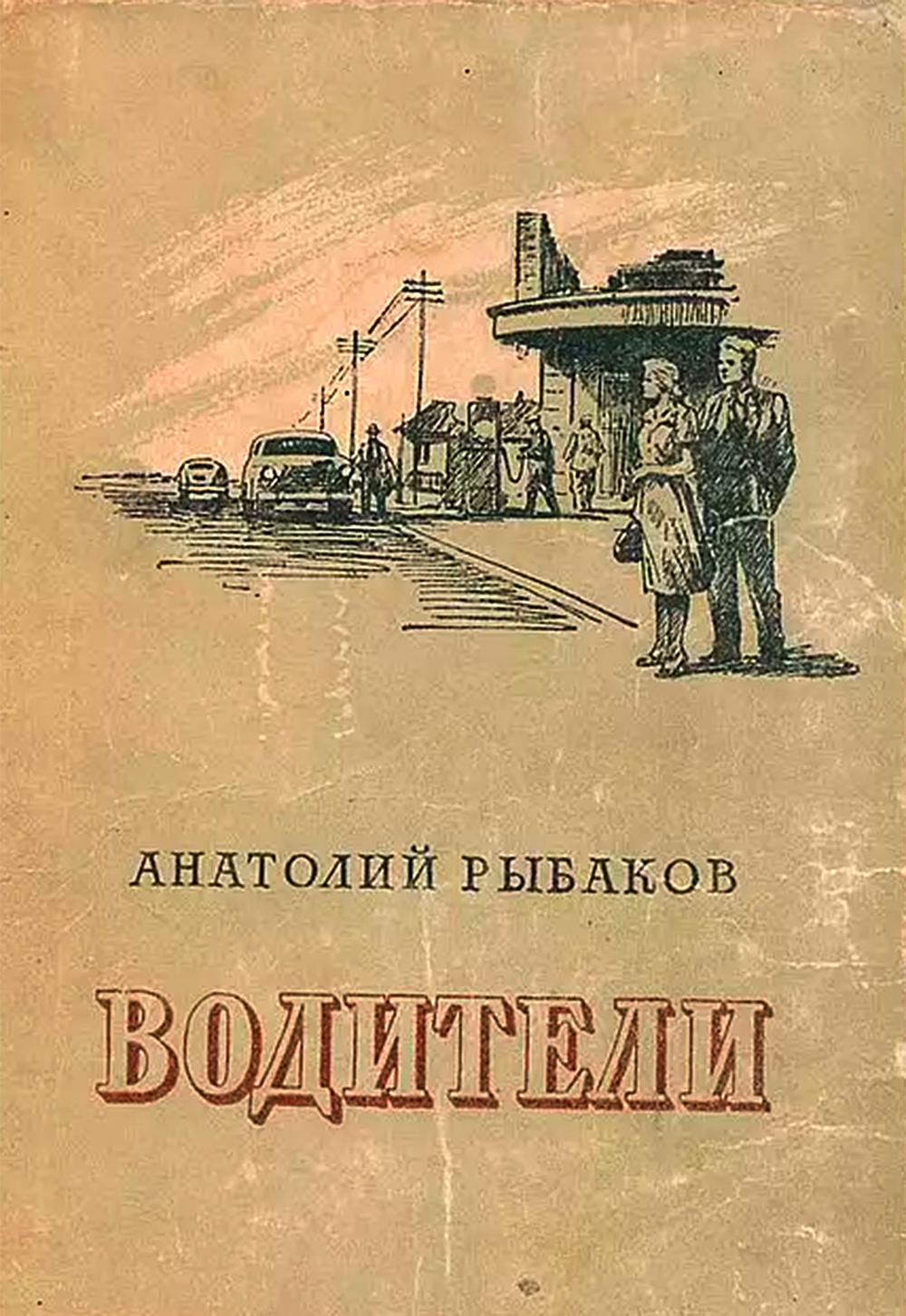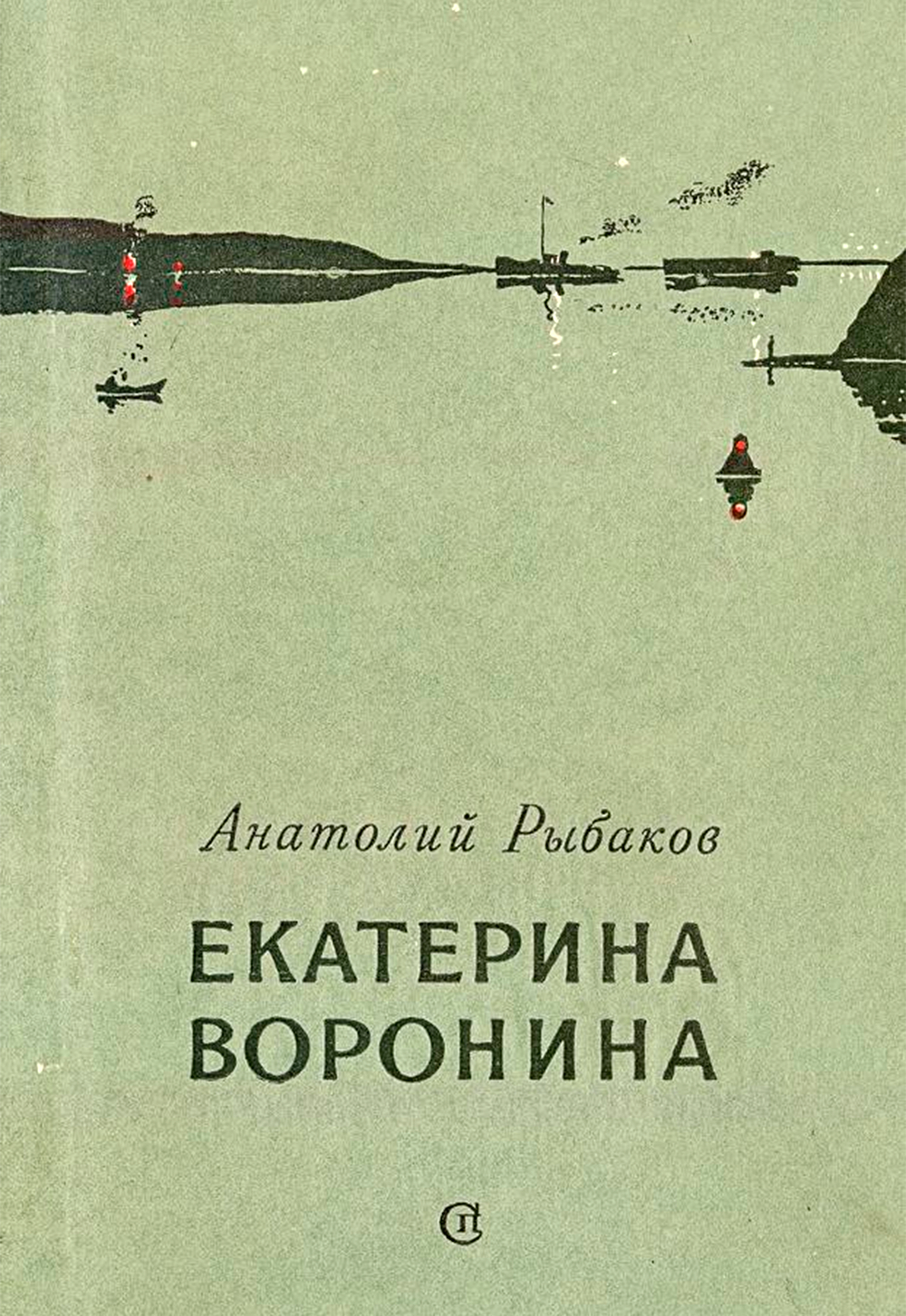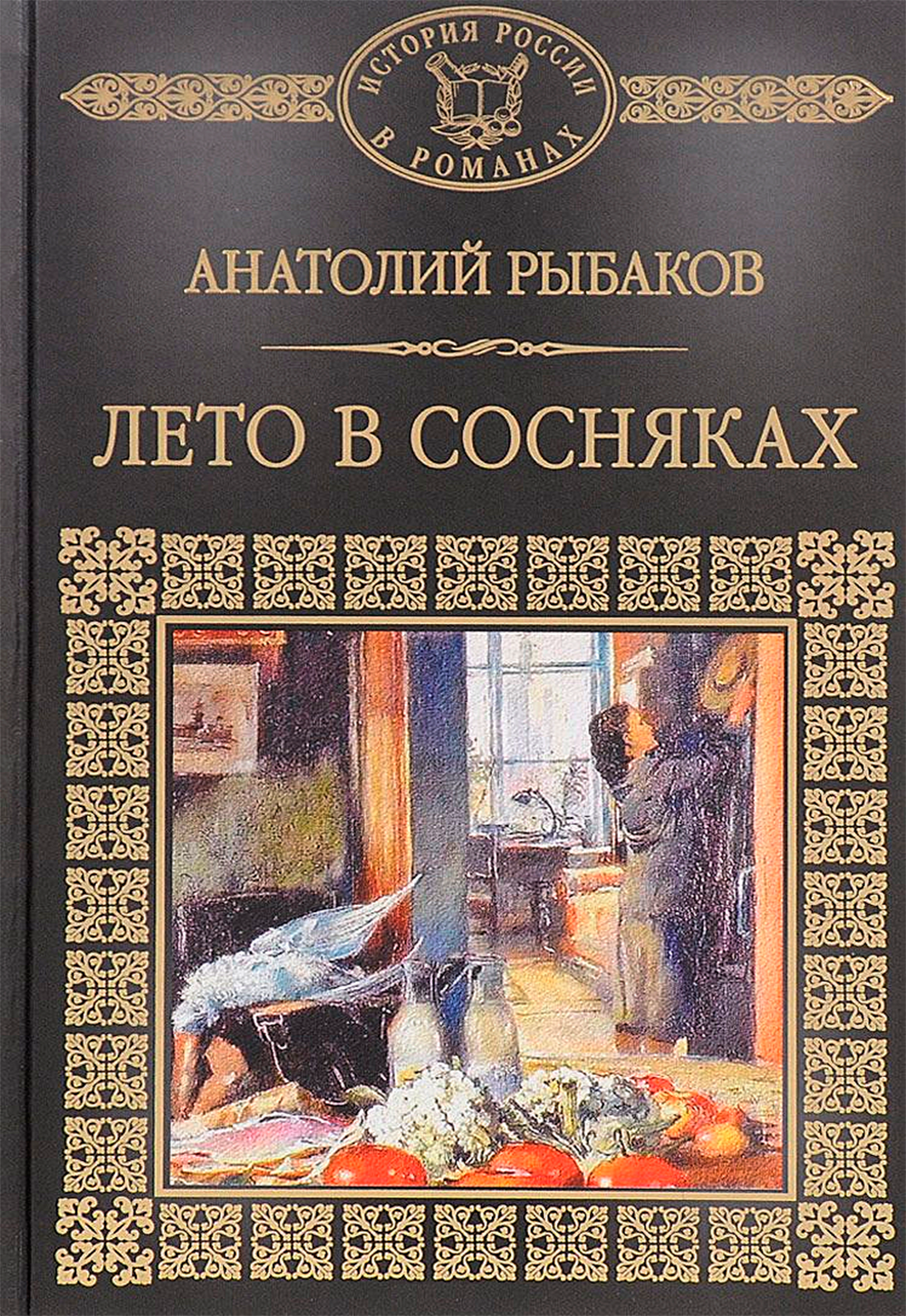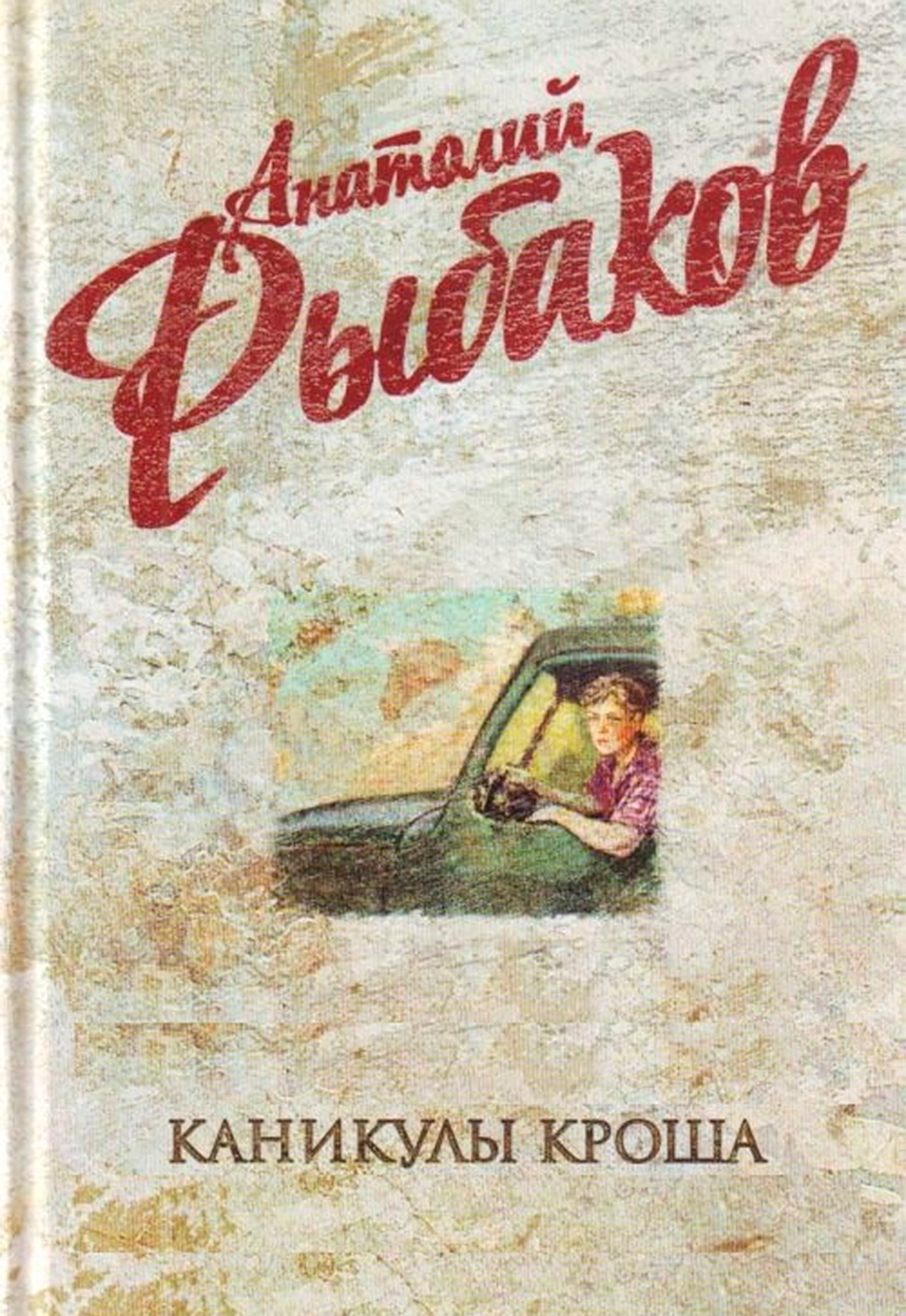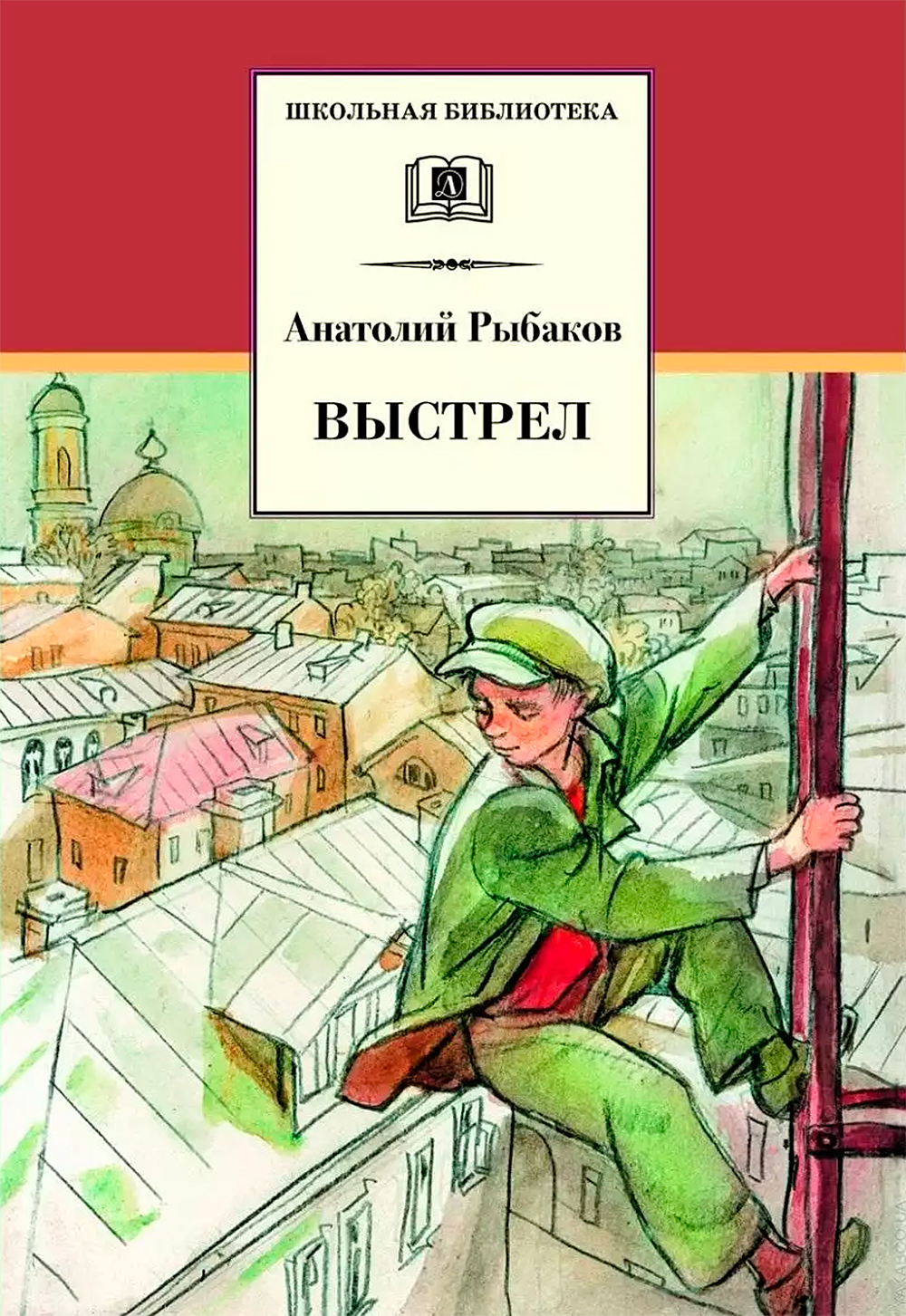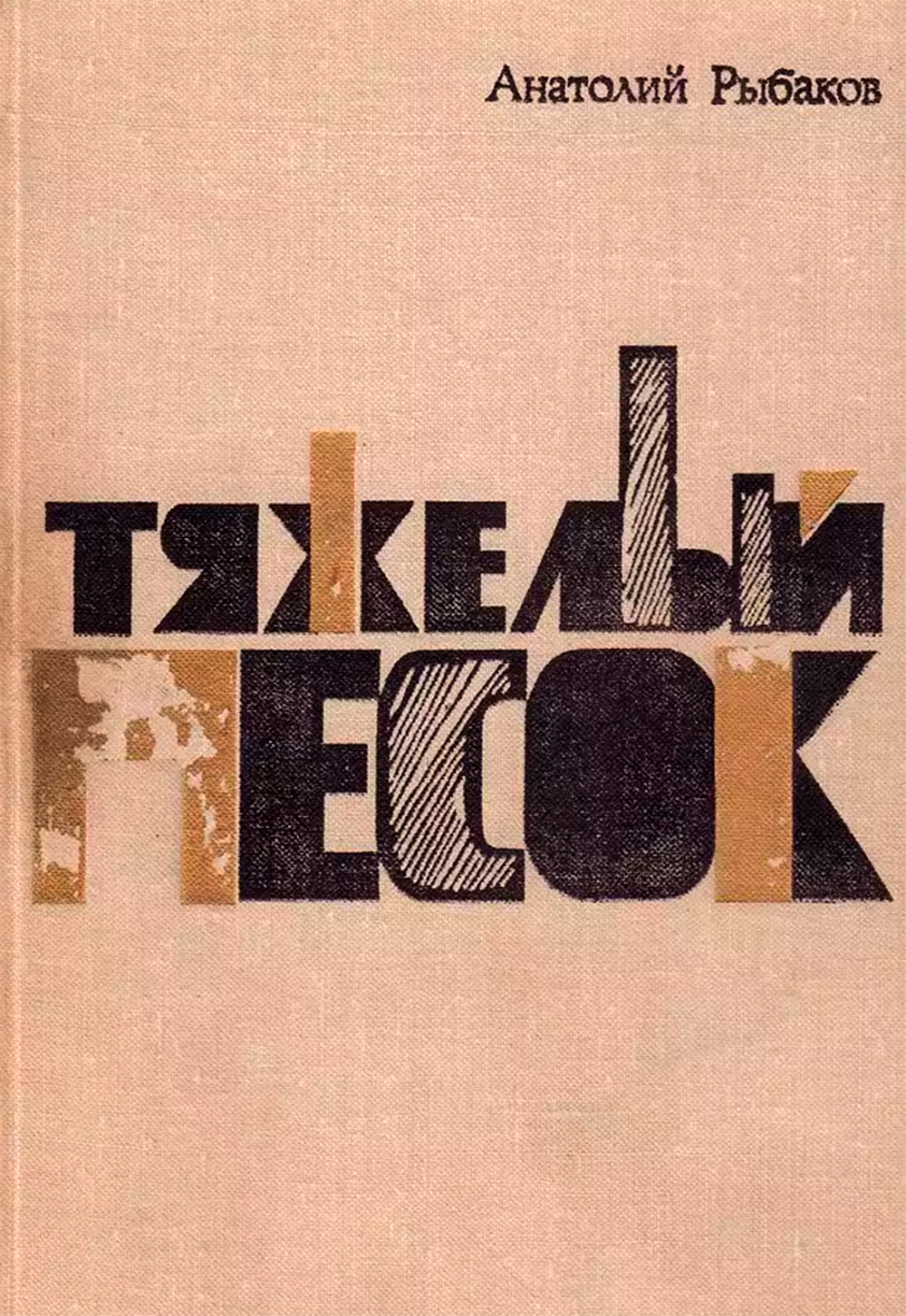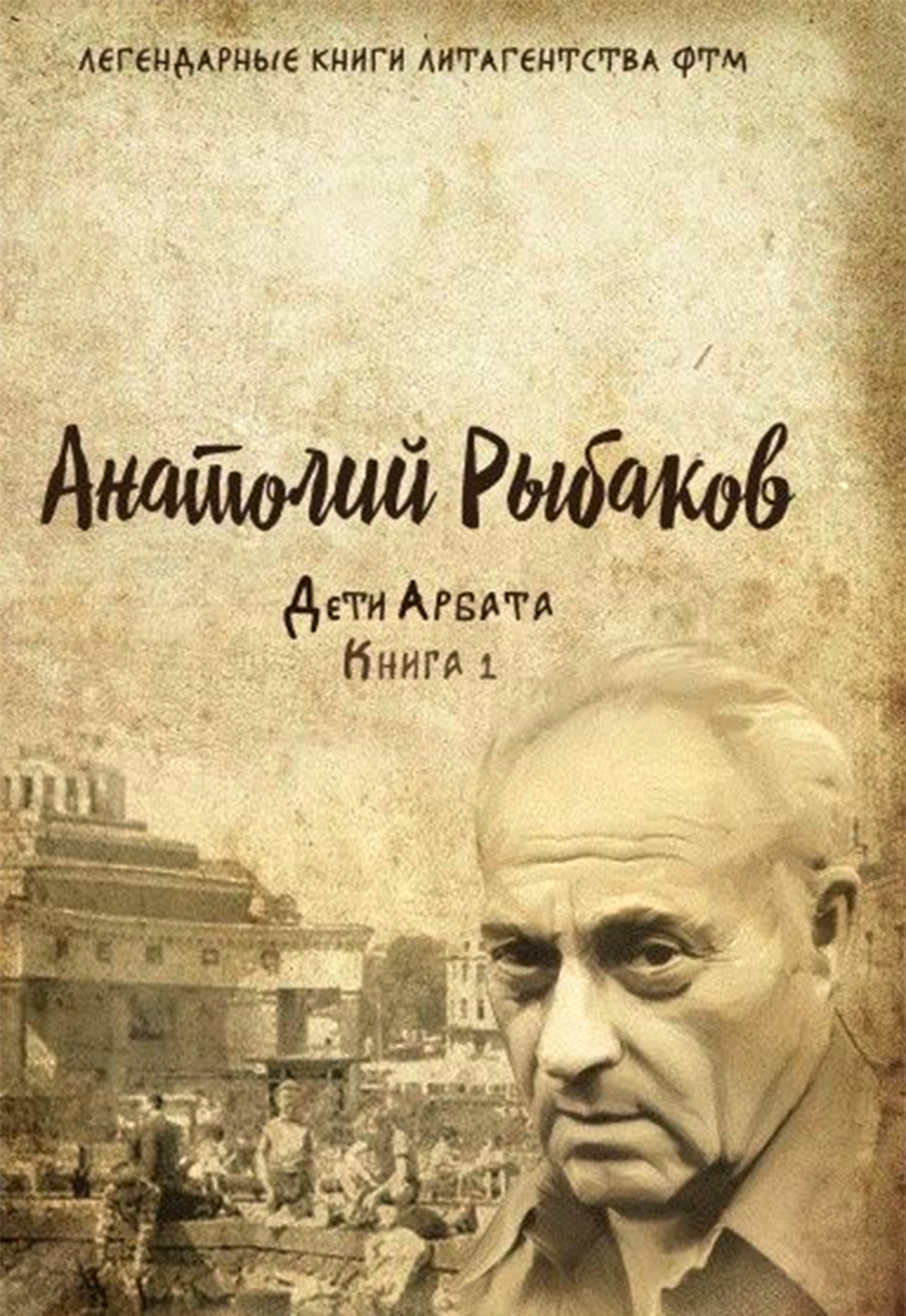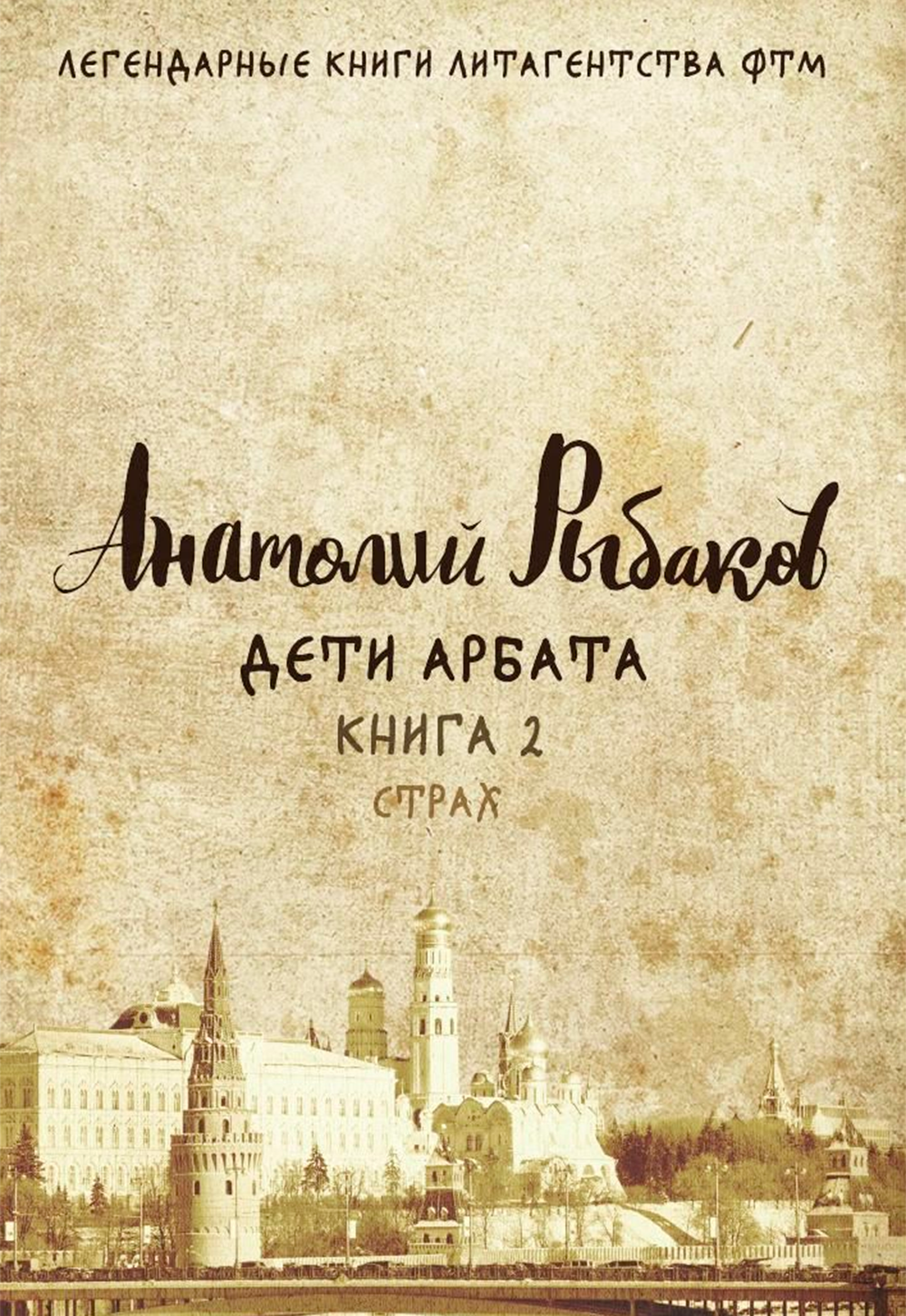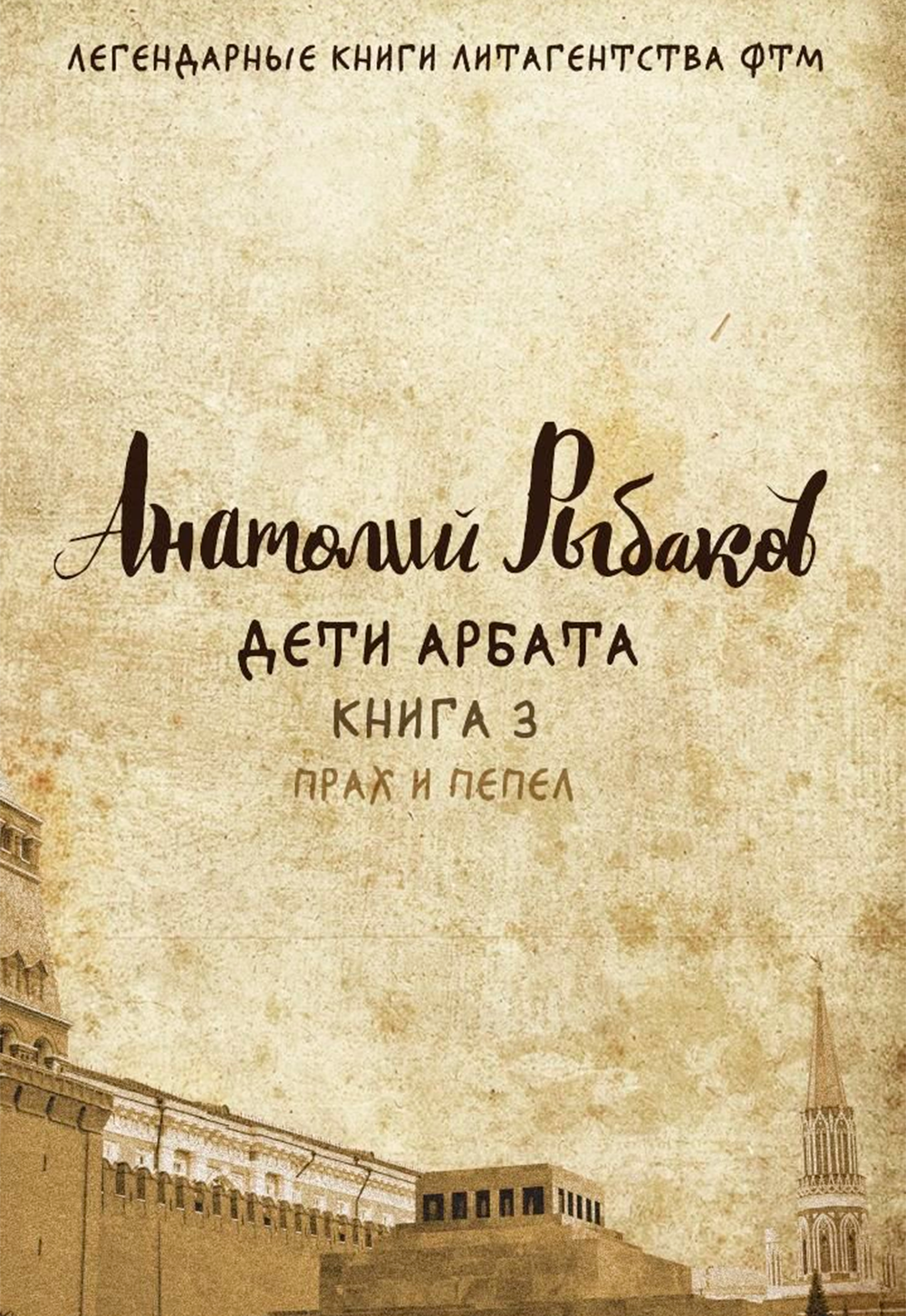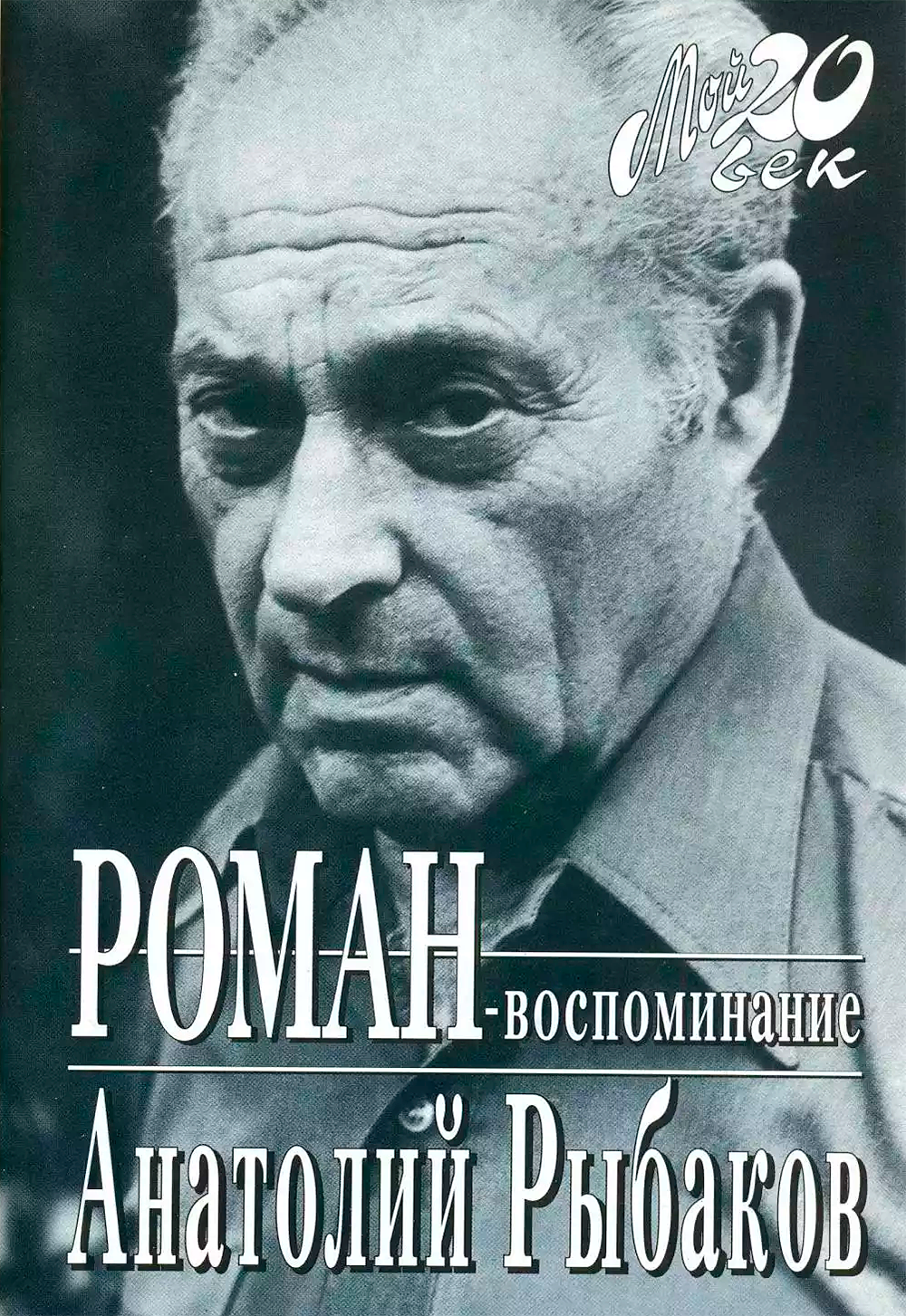Анатолий Рыбаков «Водители»
Сергеев оживился:
— Каких людей я тебе оставил! А, Мишка? Каких людей! Один Степанов чего стоит!
— Хороший работник, — согласился Поляков, — только твоя червоточинка пробивается иногда.
Сергеев самодовольно ухмыльнулся:
— Моя школа! А Потапыч как, скрипит?
— Скрипит.
— Богатый мастер, золотой, у-ни-версаль-ный! Мы с ним еще, знаешь, на каких машинах работали! Тогда шоферы на всю Россию единицами считались… Да… — Он сощурил глаза. — А этот у тебя, как он, Демин, только ты по совести, честно, сто тысяч наездил? Или сменили, может, под шумок моторчик, а?
— Нет, ничего не меняли.
— Верю, раз ты говоришь, верю. Вот что хорошо у тебя, так это Тимошин: тут я тебя поддержу; детали твои не хуже заводских, только, знаешь, чего тебе не хватает? Настоящей термической обработки, вот чего. Ну, ты добудешь. Эх, Мишка, Мишка, чувствую, сгрохаешь ты завод нам всем на удивление, честное слово, сгрохаешь! Ну, скажи, чертушка, за что я тебя люблю? Скажи!
Он сделал болезненную гримасу, схватился эа живот и пробормотал:
— Треклятая! Замучила изжога.
— Лечиться надо, Константин Николаич, — сказал Поляков.
— Вот мой доктор! — Из стоящей рядом коробки он насыпал полную ложку соды, поднес ко рту и, сменив гримасу боли на гримасу отвращения, проглотил, запив поданной ему Поляковым водой.
Давал себя знать плотный обед после бани, выпитая вслед за бессонной ночью водка, — Полякова клонило ко сну, но он сказал:
— Константин Николаич, мне ехать пора.
Морщась от нового приступа изжоги, Сергеев замахал руками. Отдышавшись, закричал:
— Никаких «ехать», ночевать оставайся, все равно машин нет!
— Я ведь тебя просил! — с досадой сказал Поляков.