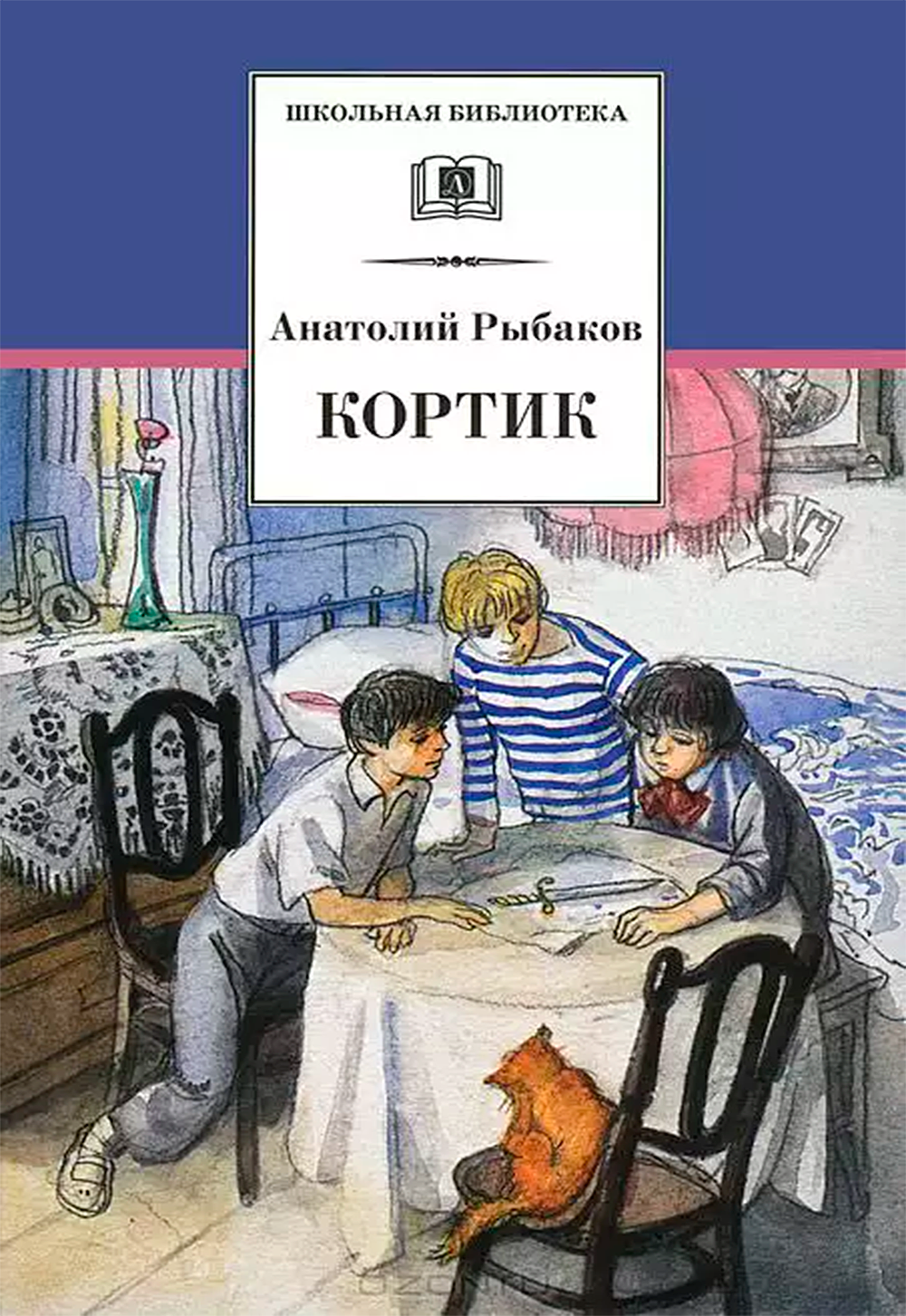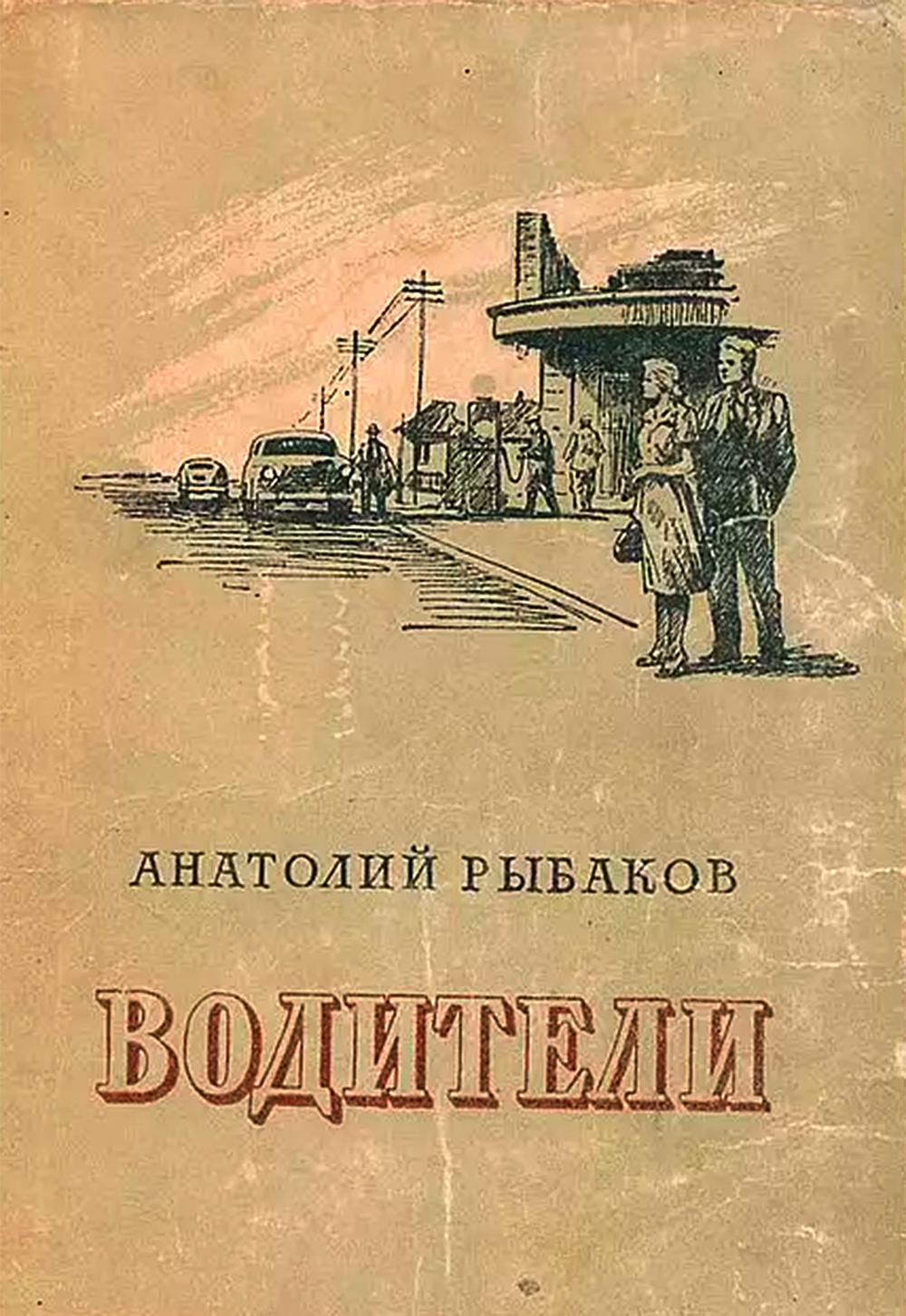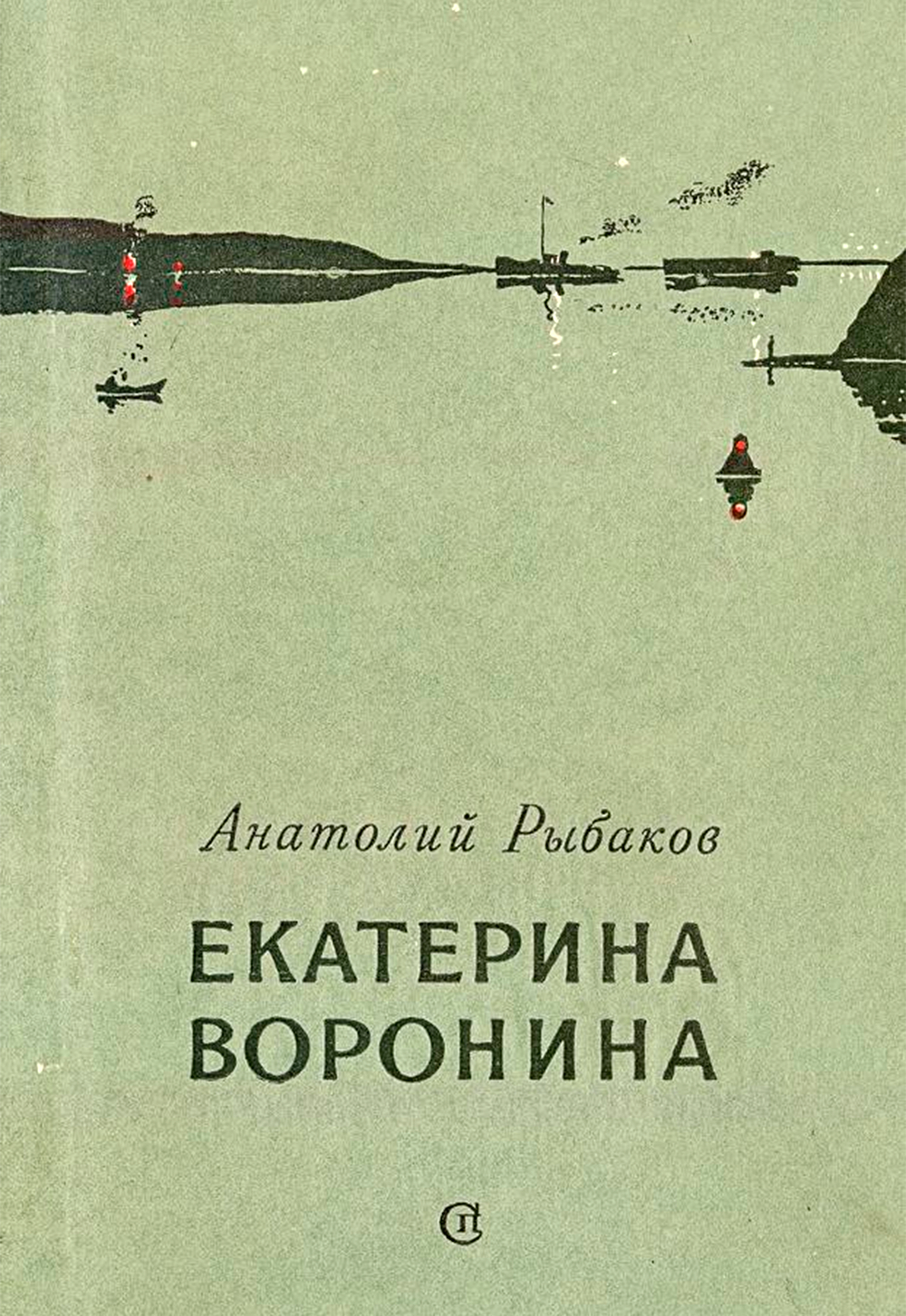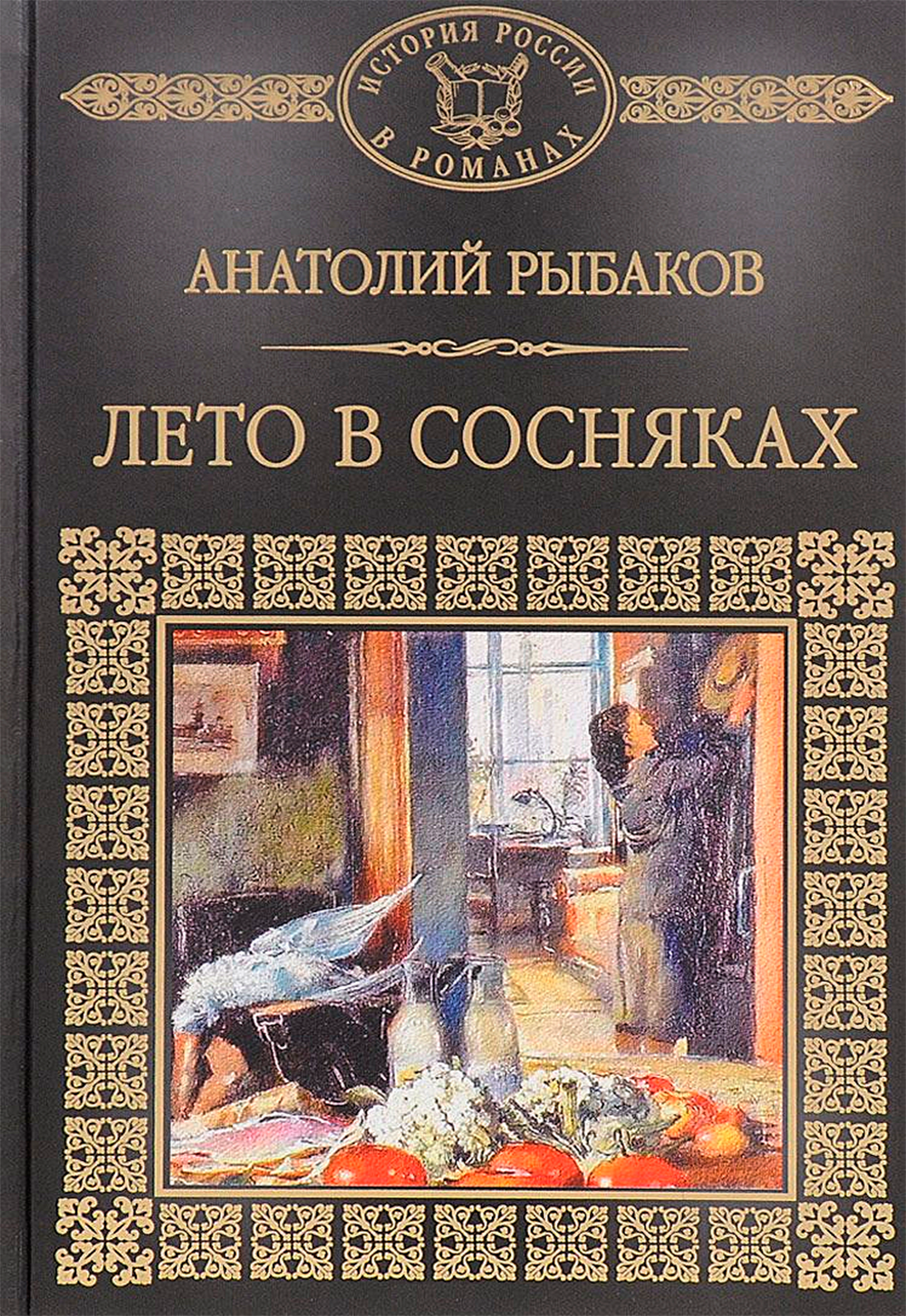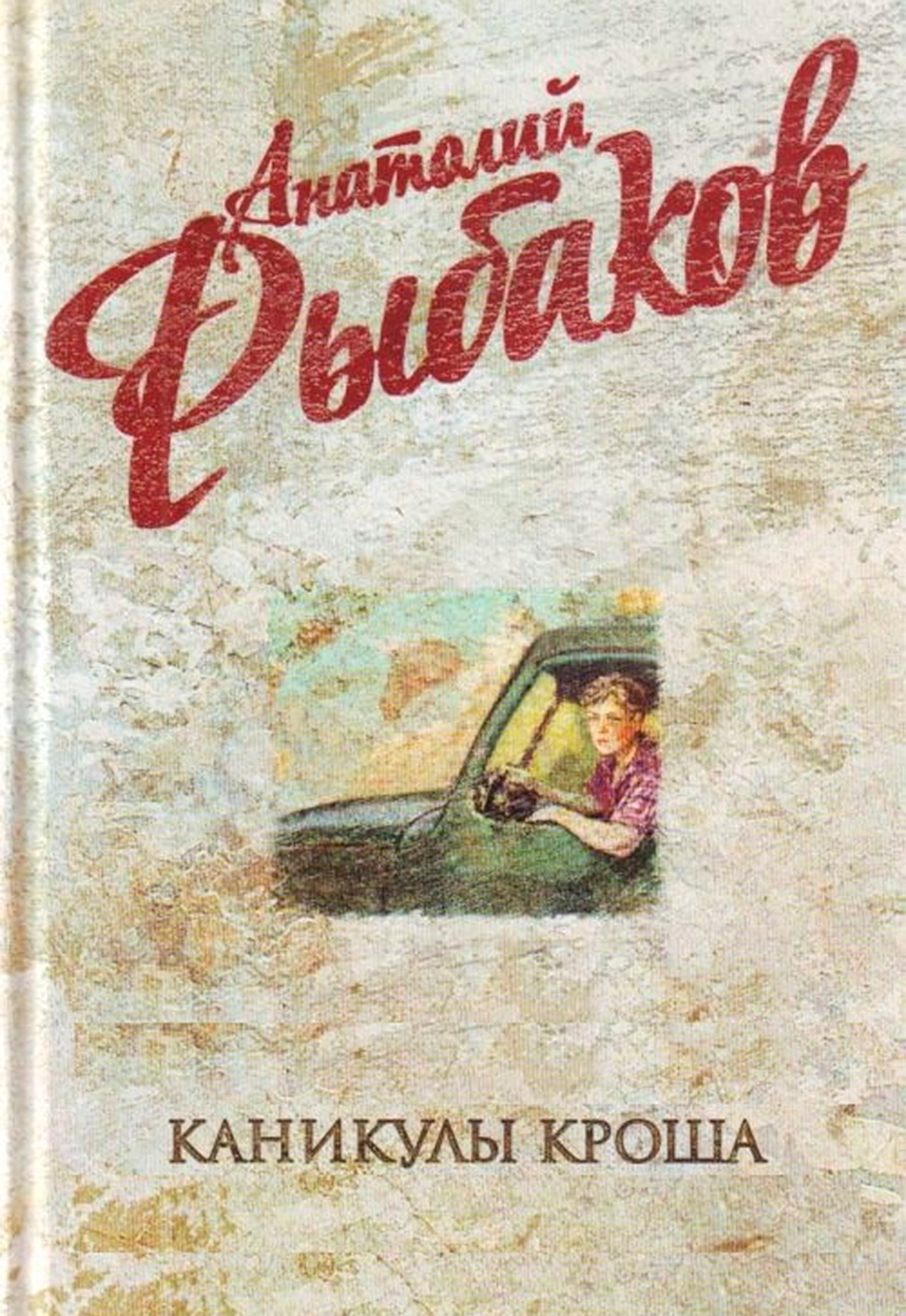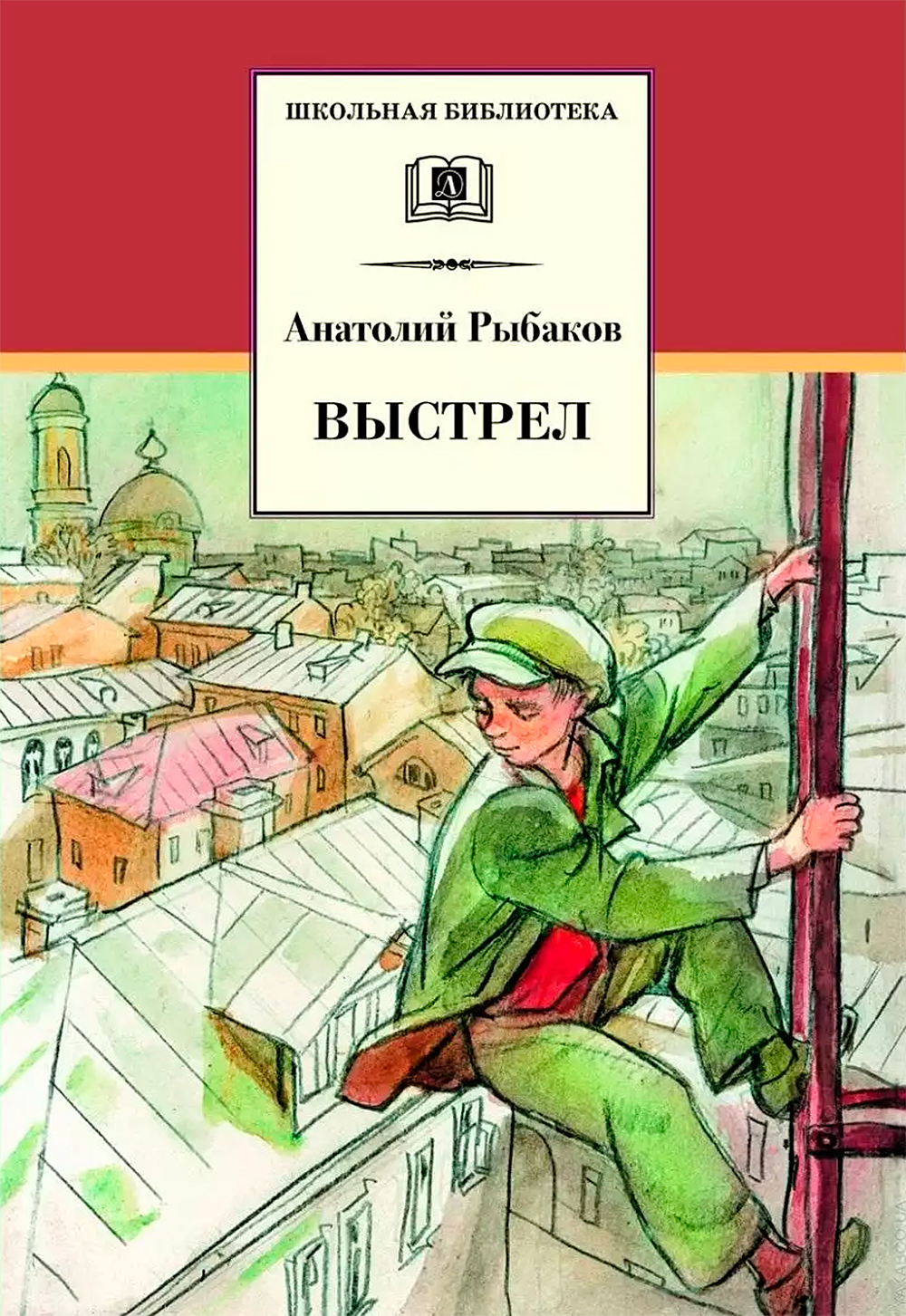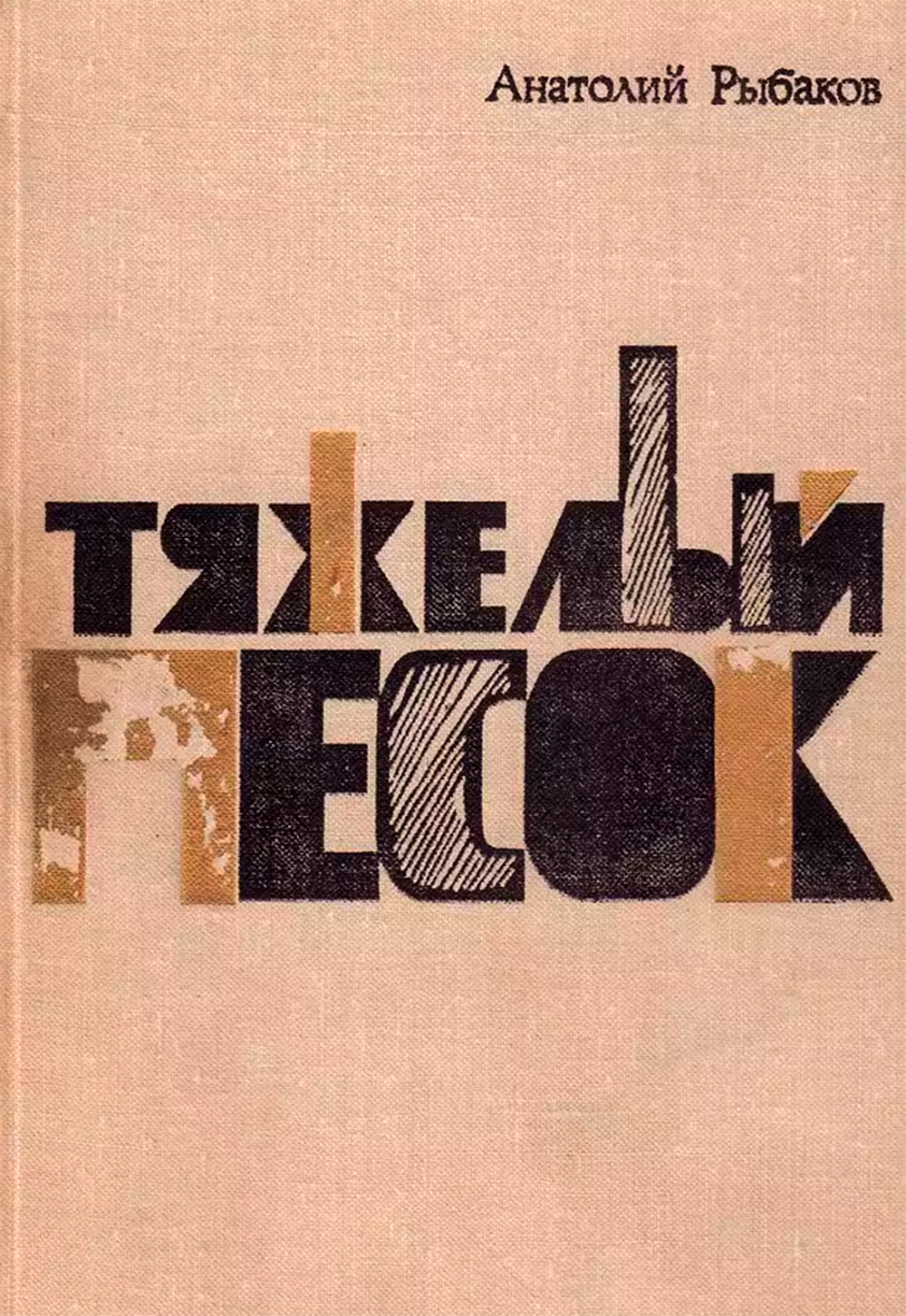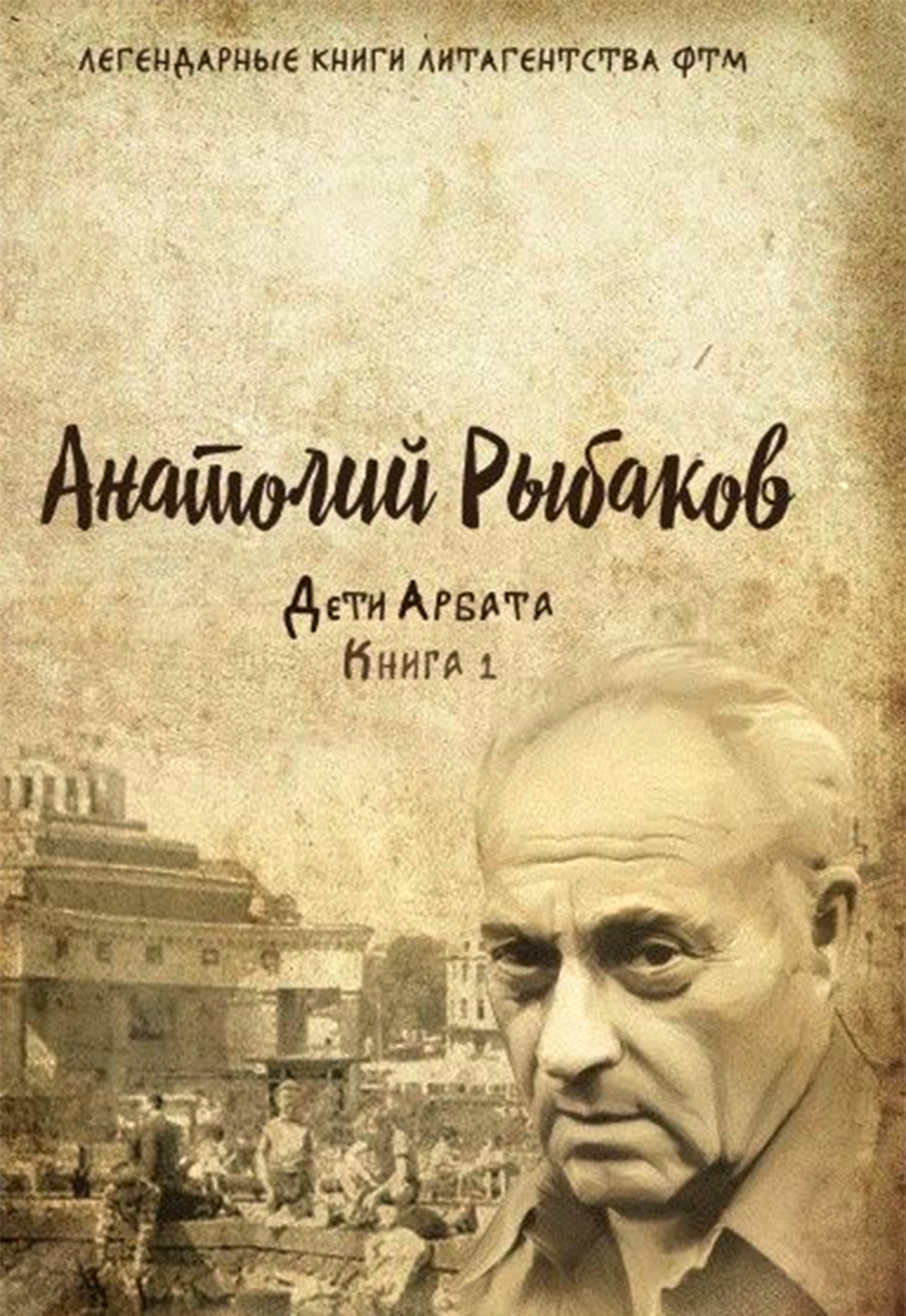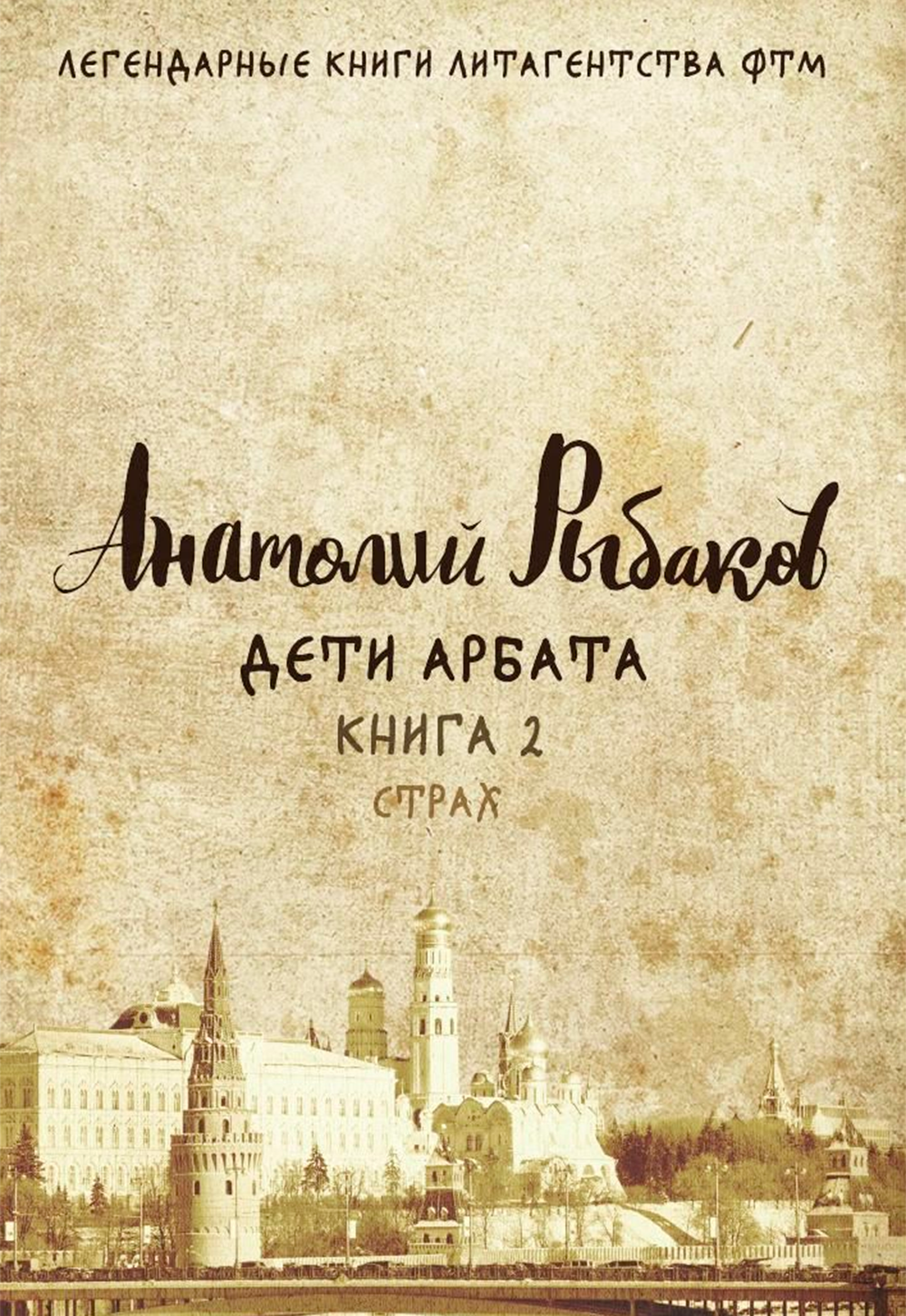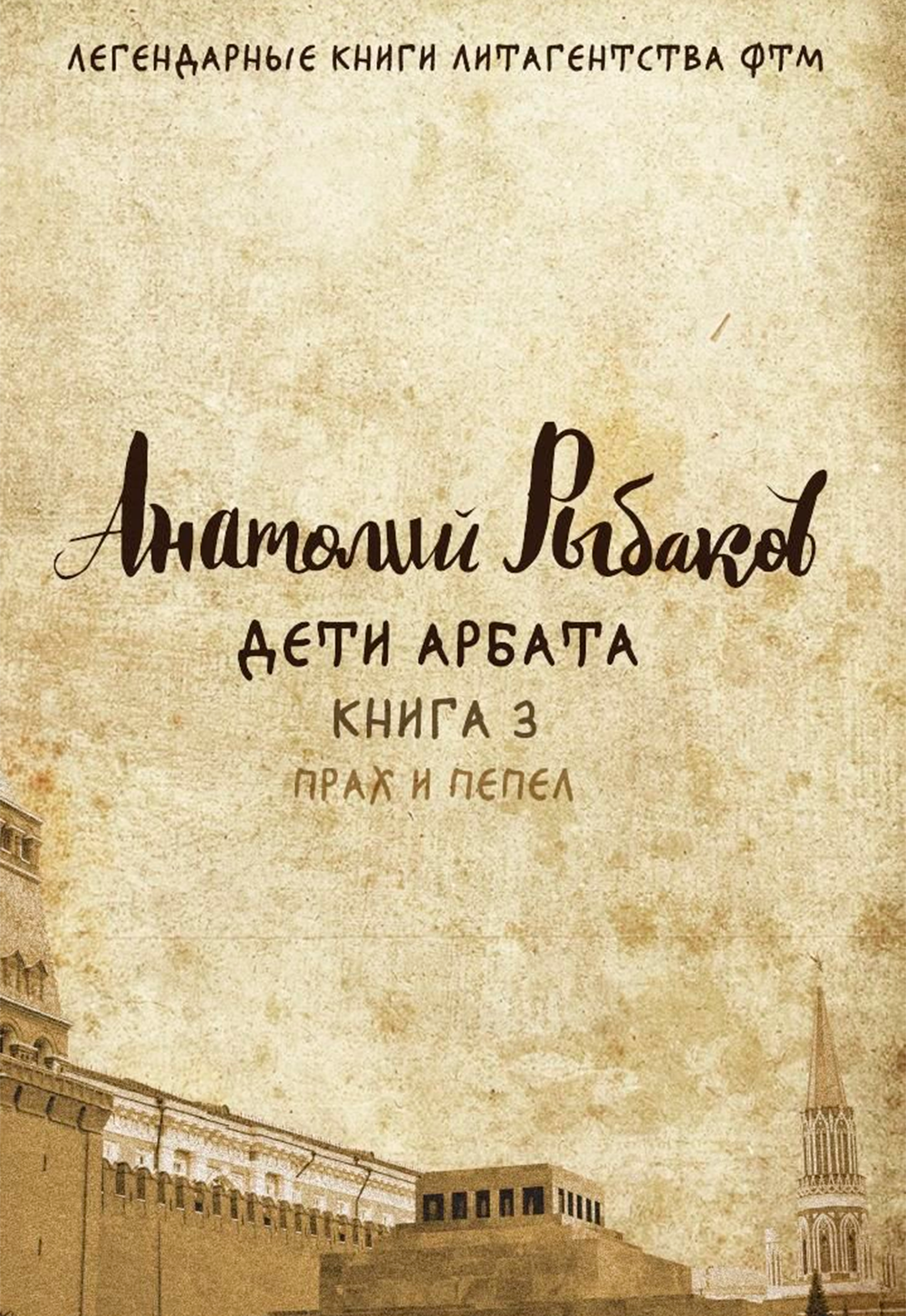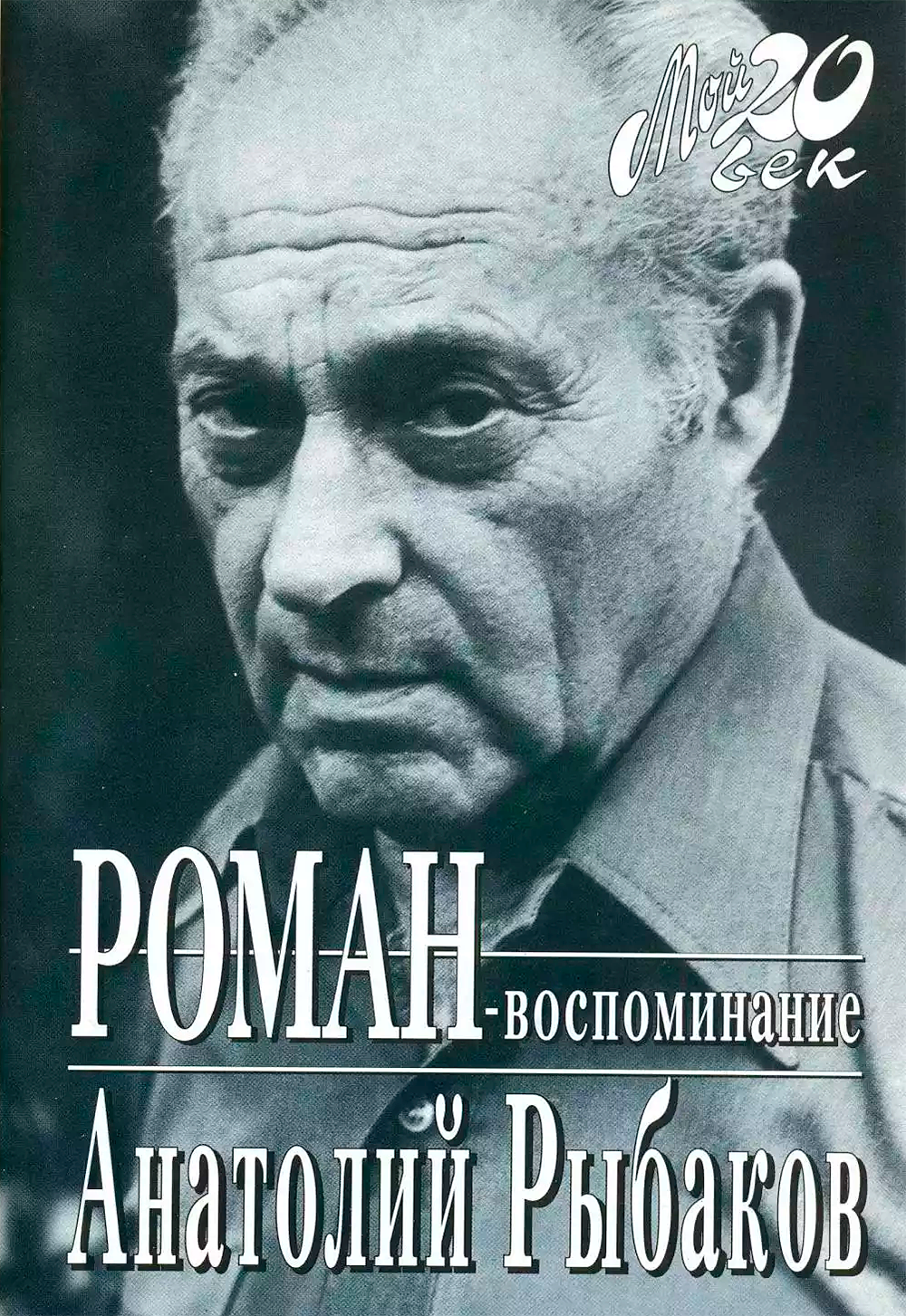Анатолий Рыбаков «Водители»
И неожиданно загремела широко и сильно:
И вдруг взмахнул по всем по трем…
Сергеев наклонился к Полякову и зашептал:
— Слушай, Миша, что скажу. Понимаешь, вот я и директор, сам знаешь, из чего я вышел, а чувствую: много во мне этого… Чувствую, а вытравить не могу. — Он обвел комнату руками: — Это требуха, мелочь, а вот по работе… Вижу, что неправильно, а как правильно — нe знаю. — Он ударил в грудь кулаком. — Разве я не работник?
И сразу замолчал, потом усмехнулся:
— Предлагали мне работу в тресте. Управляющим хотели сделать. Да ведь я за почетом не гонюсь, мне хозяйство нужно, чтобы дело делать, а бумаги не для меня, я не Канунников.
— Хочешь, спокойно жить Константин Николаич, — сказал Поляков, вглядываясь в Сергеева, точно оценивая, способен ли этот человек в таком состоянии понять его.
Он уже не жалел, что остался. Двадцать лет они были знакомы, и вот впервые Сергеев говорил с ним начистоту.
— Знаю, вижу, — устало произнес Сергеев, — да с какого конца начинать беспокойство-то?
— С любого. Главное, брось ты свою дешевую колокольню. — Поляков наклонился к нему, тронул за руку. — Ты думаешь, мне иной раз не хочется уйти от драки? Ведь на какую мелочь нервы растрачиваешь. А вот так себя приучил, что не могу. Ни на кого не хочу оглядываться, совесть мне высший судья. А ты приноравливаешься. И людей приучил.
Сергеев вздохнул:
— Вот в людях-то и загвоздка, не поймут они, подумают: «Хитрит, дядя Костя».
— Пусть думают, а ты ломай.